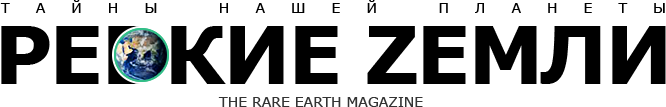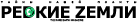Магнитная зависимость: кто рискнёт разорвать импортную петлю?

Фото: ООО Росатом МеталлТех
Россия, как и большинство стран мира, сегодня зависит от импорта настолько, что история успеха одного или даже нескольких предприятий уже не позволит обрести независимость от поставок импортных продуктов, оборудования и технологий. Нужны усилия сотен и тысяч компаний, нам нужно, чтобы все сплотились ради этой цели.
Стране необходим новый атомный проект на уровне национальной задачи, от которой зависит не только будущее редкоземельной промышленности, но и технологическая независимость России. Такой проект требует участия государства — не как заказчика, а как координатора, который способен соединить ресурсы, регулирование и интересы бизнеса.
Технологический суверенитет - это новейшие разработки в области науки и промышленности, умноженные на интерес государства и бизнеса. Чтобы собрать все элементы воедино, требуются площадки для глубоких дискуссий с участием всех сторон для выработки комплексного решения, которое становится базой будущих стратегий развития. Одна из таких платформ – Всероссийская научно-техническая конференция «Постоянные магниты: наука и технологии. Производство. Применение» MAGNETECH-2025. Второй в истории форум, соорганизатором которого выступил #CREON, с 13 по 15 октября состоялся в Москве в музее «АТОМ». Он объединил ведущих учёных, инженеров и представителей бизнеса. Основными темами стали текущее состояние и перспективы рынка постоянных магнитов и редкоземельных металлов — материалов, без которых невозможно развитие энергетики, транспорта, электроники и робототехники.

Это уже вторая попытка объединить несколько магнитных форумов, которые долгие годы существовали разрозненно. На этот раз организаторы поставили задачу шире — собрать предприятия и научные школы, заинтересованные в создании конкурентоспособной цепочки от добычи руды до выпуска готовых изделий.
Как Россия ищет путь в индустрии редких элементов

Генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов зачитал обращение Кирилла Комарова, первого заместителя генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»: «Создание отечественного цикла постоянных магнитов — один из приоритетов корпорации. Это часть задачи национального масштаба — обеспечения технологического суверенитета и формирования производственных цепочек в отраслях экономики будущего».
Сам Андрианов в своём выступлении подчеркнул, что редкоземельная индустрия «не просто направление, а инфраструктура технологического лидерства России». Он также напомнил, что, по словам Президента РФ Владимира Путина, развитие редкоземельной отрасли — стратегическая задача страны, и отметил, что конференция должна стать шагом от обсуждений к конкретным решениям.

Почему госкорпорация занимается развитием отрасли постоянных магнитов, разъяснил в своём обращении к участникам конференции #Magnetech 2025 директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко.
- Ответ очевиден: начатый 80 лет назад атомный проект потянул за собой развитие ряда других отраслей промышленности. Чтобы создать ядерный щит, нужно было создать новое материаловедение. История в какой-то мере повторяется: развитие технологий замкнутого цикла стимулирует развитие целого ряда новых направлений — от добычи редкоземельных элементов до производства магнитов. То же самое касается строительства гигафабрик и систем накопления энергии, — отметил Шевченко.
С чего начинается отрасль
Без собственной минеральной базы никакой технологический суверенитет невозможен.

Об этом напомнил Игорь Калабский, начальник отдела развития промышленности редких, редкоземельных, драгоценных металлов и камней Минпромторга России. По его словам, развитие отрасли требует замкнутой вертикали — от добычи до готового продукта, и выстраивать её нужно не набором проектов, а единой логикой взаимодействия.
– Только тогда, — подчеркнул Калабский, — отрасль сможет работать на устойчивый результат.
Отдельный интерес вызвал вопрос масштабов. Председатель совета директоров «Альянс РЗМ» Михаил Дворкович обратил внимание на расхождения в оценках запасов: по данным USGS, Россия располагает 3,8 млн тонн оксидов редкоземельных элементов, а по отечественной статистике — это 28,5 млн тонн. А с учётом снятых с баланса месторождений эта цифра может быть на порядок выше – свыше миллиарда тонн.

При этом все время возникает разговор об ограниченности ресурсов на фоне одних и тех же проблем: комплексность месторождений, логистика и инфраструктура, когда масштабы страны становятся причиной увеличения стоимости сырья, а тяжелые климатические условия затрудняют работу предприятий. Как отметил представитель ФГБУ "ВИМС" Александр Рогожин, ключевым звеном остаётся Ловозерский ГОК, где добывается лопаритовый концентрат. Именно этот обогатительный комбинат сегодня обеспечивает переработку на Соликамском магниевом заводе (СМЗ), но у этого сырья есть серьёзное ограничение — в нём почти нет тяжёлых элементов, необходимых для высококоэрцитивных магнитов.
Александр Степанов, директор по инвестициям и развитию СМЗ, представил прогноз мощностей предприятия: при переработке 300 тысяч тонн руды в год, запуск которой запланирован на 2028 год, СМЗ сможет выпускать до 1 000 тонн редкоземельных металлов (в пересчёте на оксиды) ежегодно. В том числе, около 320 тонн неодима, 121 тонну празеодима и порядка 20 тонн тяжёлых элементов — диспрозия и тербия.
Уже к 2028 году Соликамский магниевый завод сможет закрыть потребности России в редкоземельных металлах для магнитной промышленности.
Эти данные подтвердил и Руслан Димухамедов, генеральный директор СМЗ и председатель Ассоциации РМ и РЗМ. По его словам, отсутствие звеньев в РЗМ цепочке заставляет сохранившиеся предприятия импортировать сырье.
-- Сегодня более 95 процентов редкоземельных элементов, потребляемых в стране, поступает из-за рубежа. Производство тяжёлых элементов экономически сложно, но именно они определяют технологическую независимость при создании магнитов высокой коэрцитивности, — отметил Димухамедов.

Неторопливо развиваются другие проекты. Генеральный директор компании «Аркминерал–Ресурс» Андрей Тренин рассказал о проекте Африканда в Мурманской области. Здесь на базе апатит-нефелиновых руд планируется создать горно-обогатительный и химико-металлургический комплекс, который даст концентраты редкоземельных металлов, титана, ниобия и тантала. Другой пример — Томтор в Якутии, крупнейшее в России месторождение редкоземельных элементов. Его потенциал обсуждают не первый год, но в промышленную фазу проект пока не перешёл. С мая 2025 года управлением занимается «Роснефть», и теперь отрасль внимательно следит: смогут ли финансовые и логистические возможности нефтяной корпорации придать проекту реальное движение.
Томтор — уникален по составу, он богат тяжёлой группой элементов, а именно диспрозием и тербием. Именно из них делаются магниты, необходимые для реализации четвертого энергоперехода, ради которых и строится вся новая отрасль.
Один в поле против Китая
Много внимания участники форума уделили китайскому опыту: КНР регулирует рынок РЗМ через экспортные квоты и субсидии, себестоимость внутри страны в полтора-два раза ниже, чем в Европе или России.
Даже эффективные российские предприятия оказываются вне зоны рентабельности — отметили участники MAGNETECH-2025.
По оценкам экспертов, Китай контролирует около 90% мощностей по переработке концентратов и до 85–90% мирового производства магнитов. Это не просто лидерство — это архитектура рынка, на которой держится весь мир. Пока китайские производители могут выдерживать длительное ценовое давление, российские компании вынуждены балансировать между курсом валют, ставками и дефицитом заказов, существовать в нестабильных правилах игры при высокой стоимости кредитов. Каждый проект решает свои проблемы отдельно, и это главный тормоз для масштабирования.
Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Константин Фёдоров напомнил, что редкоземельная вертикаль — часть новой промышленной политики. По его словам, без синхронизации министерств, регионов и инвесторов Россия рискует упустить темп. – Государство готово рассматривать реальные механизмы поддержки, — подчеркнул Фёдоров. — Но проекты нуждаются в финансировании уже сегодня.
В обновлённой Стратегии развития редкоземельной отрасли, над которой Минпромторг завершает работу, впервые предусматриваются долгосрочные оффтейк-контракты, субсидирование процентных ставок и приоритетное включение рециклинга в систему господдержки.

Это означает, что переработка отходов — магнитного лома, фосфогипса, техногенных отвалов — теперь рассматривается не как побочная тема, а как полноценный ресурс.
Рециклинг: не мусор, а стратегический резерв
Чем сложнее и дороже становится добыча, тем больше интерес к вторичным источникам. Рециклинг редкоземельных металлов из отходов и списанного оборудования — уже не побочная тема, а один из реальных путей к технологической независимости. На конференции этому направлению уделили не меньше внимания, чем горной добыче.
Генеральный директор группы компаний «Русредмет» Андрей Нечаев напомнил, что переработка отходов способна стать опорной частью отрасли. – Вторичные источники — это не мусор, а стратегический резерв. Без государственной координации и стабильного спроса рециклинг так и останется набором пилотных установок, — резюмировал Нечаев.
По оценке «Русредмета» и ВИМС, потенциал вторичного сырья в России составляет от восьми до десяти тысяч тонн редкоземельных оксидов в год — почти пятая часть внутреннего спроса. Себестоимость переработки магнитного шлама — около 1–1,2 тысячи долларов за тонну, при этом стоимость извлечённых соединений достигает 2,5–3 тысяч.
То есть экономика вторичных материалов уже сравнима с первичной добычей, особенно при стабильных объёмах поставок и единых стандартах.

Необходимость рассматривать вторичные ресурсы как часть индустриальной экосистемы отмечали в своих докладах председатель совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин и председатель правления Ассоциации «Элематика» Алексей Горелов. Они назвали электронный лом «распределённым месторождением редких металлов». – В России ежегодно образуется около двух миллионов тонн электронных отходов, но в официальной статистике — не более пяти процентов. Без системы прослеживаемости и кадастра мы теряем миллионы тонн потенциального ресурса, — отметили участники дискуссии.
Эксперты подчёркивают: рециклинг требует не только технологий, но и регулирования. Необходим единый кадастр вторичных источников, маркировка изделий, содержащих РЗМ, и запрет на экспорт лома, который сегодня часто уходит за границу без переработки.
Именно такие меры уже работают в ЕС, где к 2030 году планируют довести долю вторичных РЗМ до 15–19%.

В Институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) разработали технологию восстановления магнитных свойств сплавов NdFeB, полученных из демонтированных изделий. По словам старшего научного сотрудника Натальи Кольчугиной, новый процесс позволяет снижать энергозатраты на 30–40% и сохранять до 90% исходных характеристик магнитов.
Исследовательские центры —НИТУ МИСИС и Уральского федерального университета (УРФУ) — регулярно публикуют отчеты о разработках по извлечению и повторному использованию редкоземельных металлов из отходов электроники и магнитного лома. Учёные продолжают искать решения, которые позволят создавать замкнутые циклы не только в лабораториях, но и на промышленных предприятиях.
Во Франции уже появились предприятия, которые используют переработанное сырьё: MagREEsource запустила промышленную линию по выпуску магнитов NdFeB из отходов, а Orano и CEA открыли пилотную установку при поддержке ЕС. Подобный проект существует и в Германии – Heraeus Remloy, а за пределами Европы Cyclic Materials в Канаде и Hitachi Metals в Японии уже отрабатывают технологии замкнутого цикла. В России же пока нет примеров, когда лабораторные эксперименты перешли в промышленный этап.

Притяжение магнита
Россия постепенно создаёт собственную базу для производства постоянных магнитов — ключевого звена редкоземельной вертикали. Спрос на магнитные материалы растёт: электроэнергетика, транспорт, робототехника и электроника нуждаются в надёжных и высокоэнергетических решениях.
Пока совокупные мощности российских производителей не превышают ста тонн NdFeB-магнитов в год, тогда как внутренняя потребность оценивается в 800–900 тонн. Около 97% магнитов по-прежнему импортируется из Китая.
Изменить эту ситуацию, возможно, получится с открытием крупнотоннажного производства постоянных магнитов в Глазове (Удмуртская Республика), которое реализует ООО «Росатом МеталлТех».
– Мы создаём первое в России производство магнитов полного цикла — от отечественного сырья до конечного изделия. Наша цель — технологический суверенитет и гарантированное обеспечение отраслей высоких технологий, — отметил генеральный директор компании Андрей Андрианов.
Проект рассчитан на выпуск более 500 тонн NdFeB-магнитов в год при потребности около 350 тонн редкоземельных металлов, включая 225 тонн неодима, 75 тонн празеодима, 35 тонн диспрозия и 15 тонн тербия. Завод в Глазове должен стать центральным элементом будущей магнитной индустрии страны — не просто производственной площадкой, а узлом кооперации между металлургией, машиностроением и наукой.
Одновременно с этим в стране формируется сеть предприятий, которые способны поддержать новую вертикаль. Соликамский магниевый завод (СМЗ) приступил к проектированию линии по разделению редкоземельных оксидов. Модернизация магнитного производства на АО «Научно-производственное предприятие “Исток” им. Шокина» (входит в холдинг Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех) позволит увеличить объём выпуска литых и спечённых неодимовых и самариевых магнитов.
АО «Уральский электромеханический завод» сообщил о внедряемой низкооксигеновой технологии MagRise, позволяющей снижать содержание кислорода в сплавах NdFeB и повышать стабильность магнитных характеристик без увеличения себестоимости.

Однако пока совокупные мощности российских производителей не превышают 100 тонн РЗМ-магнитов в год. Запуск завода в Глазове, переработка РЗМ на СМЗ и модернизация действующих предприятий впервые создают возможность замкнуть внутренний цикл, обеспечить отечественные компании собственными материалами и заложить основу для импортонезависимой магнитной индустрии России.
Проект в Удмуртии обсуждается уже несколько лет, и его параметры не раз подвергались коррекции. Такое замедление естественно для новой индустрии, где важно не просто построить площадку, а выверить экономику, технологию и будущий рынок.
Кто купит российские магниты
Решающий вопрос для отечественной редкоземельной отрасли сегодня – кто станет первым заказчиком отечественных магнитов и готовы ли предприятия перейти от импортных продуктов к произведенным в России?
Советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова в своём аналитическом докладе представила контуры мирового рынка. Сегодня объём потребления постоянных магнитов оценивается в 19,5 млрд долларов, а к 2033 году может вырасти до 30 млрд при среднем темпе роста около 5% в год. В натуральном выражении — это около 290 тысяч тонн в 2024-м и 370 тысяч тонн к концу десятилетия.
Основные драйверы роста очевидны:
– электротранспорт и гибриды обеспечивают почти половину мирового спроса;
– ветроэнергетика даёт около 10 %;
– робототехника, электроника и бытовые устройства — порядка 20 %.
Китай при этом удерживает около 90% мирового производства, фактически задавая и цены, и стандарты.

Россия по оценке ТВЭЛ потребляет примерно 700 тонн магнитов в год, и к 2031 году эта цифра может удвоиться — до 1,4 тысячи тонн, прежде всего за счёт роста электродвижения, ветроустановок и беспилотной техники. Однако пока внутренний рынок фрагментирован, а контракты — единичны.
Эта тема стала ключевой в панели «Промышленность и потребление». Руководитель направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Денис Зачатейский представил прогноз, согласно которому к 2030 году российский рынок электромобилей может потреблять до 700 тонн NdFeB-магнитов ежегодно.

Журнал «Редкие Земли» обратил внимание на расхождение между прогнозами и мировой динамикой: если крупнейшие рынки — США и Китай — уже столкнулись с падением продаж электромобилей после отмены субсидий,
на чём тогда основан оптимизм российского прогноза? Получить ответ на этот вопрос не удалось. Не ясно и то, когда появится соглашение о будущих поставках отечественных магнитов для электротранспорта — сегмента, который во всём мире считается самым быстрорастущим. На конференции, впрочем, не оказалось и представителей робототехнической отрасли — ещё одного ключевого потребителя.
Производители и потребители словно живут в параллельных реальностях, несмотря на то, что новая платформа #Magnetech задумывалась именно как площадка для открытого диалога между ними. Падают прогнозы применения постоянных магнитов в ветроэнергетике и оборонно-промышленном комплексе. Представитель «Россети НТЦ» Дмитрий Сорокин напомнил, что генераторы с постоянными магнитами обеспечивают КПД до 98 % и становятся стандартом для турбин нового поколения. Переход на СГПМ формирует устойчивый спрос — порядка 80–100 тонн магнитов в год, однако в России этот сегмент пока сжимается: дивизион «Новавинд» Росатома сокращает закупки из-за перехода на новые конструкции турбин с меньшим расходом магнитов.
Наиболее активно на запрос рынка реагируют новые компании, которые делают ставку на локализацию.
«Валтар Магнит», один из первых частных производителей NdFeB-магнитов в России, уже запустил полный технологический цикл — от прессования и спекания до механообработки на отечественном оборудовании. Как отметил технический директор компании Алексей Скуридин, спрос со стороны машиностроителей и производителей БПЛА есть, но пока он не системный.

– Сегодня мы конкурируем не только с Китаем, но и с инерцией рынка. Потребителю проще купить готовое решение за рубежом, чем участвовать в формировании новой цепочки. Но именно здесь и начинается отечественная индустрия — с доверия к своему производителю, — подчеркнул спикер.
Сектор БПЛА и робототехники остаётся наиболее динамичным, но разрозненным: по оценке участников конференции, на серийные двигатели и навигационные системы приходится около 200 тонн магнитов в год. — Мы ждём, когда появятся отечественные магниты, — отметил один из разработчиков БПЛА. — Нам нужны объёмы, стабильность и характеристики, а не разовые партии.
Кадры нужны на производстве, а не в отчетах
Редкоземельная отрасль упирается не только в экономику и технологии, но прежде всего — в людей. Без инженеров, химиков и технологов никакая вертикаль не заработает. Именно поэтому кадровая тема заняла отдельное место в повестке конференции.
Директор по управлению персоналом ООО «Росатом МеталлТех» Ольга Давыдова представила концепцию «человекоцентричной экосистемы» — корпоративную академию, систему наставничества и развитие инженерных компетенций.
– Мы создаём условия, где каждый сотрудник чувствует поддержку и возможность профессионального роста.
Однако, по словам Давыдовой, даже при этих усилиях компании всё труднее находить специалистов нужного профиля. Инженеры-технологи, материаловеды и химики редких элементов сегодня буквально на вес золота. – Мы готовы обучать и развивать, но искать приходится едва ли не вручную — рынок кадров в этой сфере практически пуст, — призналась она.

Здесь кадровый дефицит уже выходит за рамки внутренней проблемы компаний. Многие предприятия, оставаясь в рамках закрытых корпоративных систем оплаты труда, объективно проигрывают конкуренцию за специалистов — прежде всего из-за разрыва между зарплатами внутри госкорпораций и уровнем свободного рынка.
За пределами корпоративных программ проблема выглядит ещё острее. Александр Дьяченко, заведующий кафедрой химии и технологии редких элементов МИРЭА, привёл сухие цифры: в России по тематике РЗМ работают не более 50 учёных, а в отрасли остаётся лишь четверть выпускников профильных вузов.
– Мы готовим инженеров, но у нас нет рынка их знаний. Без заказов и кооперации наука растворяется, — отметил он.

Проблему подтвердил Владимир Комлев, директор Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН: в институте, который когда-то был центром металлургии редких элементов, сегодня на этом направлении трудятся всего несколько специалистов, а средний возраст сотрудников приближается к семидесяти годам.
– Если не появится программа омоложения кадров, отрасль потеряет преемственность.

Тем не менее научные школы продолжают формировать ядро будущей инженерной системы.
Представители университетов — Владимир Кружаев (УрФУ) и Михаил Филонов (МИСИС) — подчеркнули, что именно образование и прикладная наука должны стать связующим звеном между лабораторией и производством. Их позиция едина: отрасли нужны не новые кафедры и потоки студентов, а реальные заказы, совместные проекты и условия, в которых инженер может работать по профессии, а не по случаю.
По сути, именно университеты и институты сегодня становятся опорными центрами компетенций, где встречаются образование, прикладная наука и промышленность.
Но чтобы этот треугольник заработал как система, выпускники должны находить себя в реальном производстве, а не в отчётных таблицах.
Редкоземельная индустрия как тест на управляемость
Сейчас в развитии отрасли очевиден парадокс. Он заключается в том, что технологическая вертикаль уже почти выстроена — от добычи до лабораторий. Не хватает только того, с чего всё начинается, — экономики спроса, а также отраслевых экономистов, которые могут реально оценить, сколько стоит настоящая технологическая независимость от импорта. Пока магниты не получат устойчивого заказчика, любая программа по редкоземельным металлам останется очередной дорожной картой на бумаге.
За рубежом эту задачу решают через оффтейк-контракты, обещанные Минпромторгом в ближайшем будущем и на российском рынке. В 2024–2025 годах в США и Европе были заключены крупные соглашения на поставку магнитов для электродвижения и электроники. MP Materials подписала с Apple Inc. контракт объёмом около 500 млн долларов, а также получила стратегическую поддержку от Пентагона для создания замкнутой цепочки производства магнитов в США. Neo Performance Materials зафиксировала заказ на поставку магнитов для европейского рынка электромобилей стоимостью около 50 млн долларов и построила завод в Эстонии при поддержке Еврокомиссии и фонда Just Transition. В этих проектах государство выступает не сторонним наблюдателем, а участником: оно инвестирует, страхует риски и обеспечивает предсказуемость спроса.
Текст: Александр Домов
Фото: ООО "Росатом МеталлТех"

- 24 декабря 2025 ГОСПЛАНА НЕ БУДЕТ - ВЛАДИМИР ПУТИН О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- 11 декабря 2025 Ушел из жизни Радий Иванович Илькаев — ученый, определивший эпоху
- 23 апреля 2025 ОТ «ОБОРОНКИ» ДО СПОРТА: КАК СКАНДИЙ МОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- 18 апреля 2025 ОТ ХАЙПА К ДЕЛУ: КАК РАЗВИВАТЬ РЗМ-ИНДУСТРИЮ В РОССИИ
- 9 апреля 2025 ВЫИГРАТЬ ВСУХУЮ: О НОВЫХ ПОДХОДАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБОГАЩЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ЯКУТИИ
- 26 марта 2025 Арктическое пророчество
- 26 февраля 2025 ПОЯВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА “РЕДКИЕ ЗЕМЛИ” ОПЕРЕДИЛО ВРЕМЯ НА 10 ЛЕТ - АКАДЕМИК РАН ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕНКО
- 14 февраля 2025 Редким землям России нужен ТРАМПлин
- 6 февраля 2025 РЕДКИЕ ЗЕМЛИ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
- 3 февраля 2025 РАЗДЕЛЯЙ И ЗАРЯЖАЙ
- 26 января 2025 ВЛАДИМИР ВЕРХОВЦЕВ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ
- 27 декабря 2024 МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ
- 27 октября 2024 ДЛЯ ГЛАВНОЙ НАУКИ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАЖЕ НЕ ПРИДУМАЛО НАЗВАНИЕ
- 13 октября 2024 Форум «Микроэлектроника 2024» – без высокочистых редких металлов никуда
- 23 сентября 2024 ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА К СОЗДАНИЮ НОВОЙ ИНДУСТРИИ В РФ